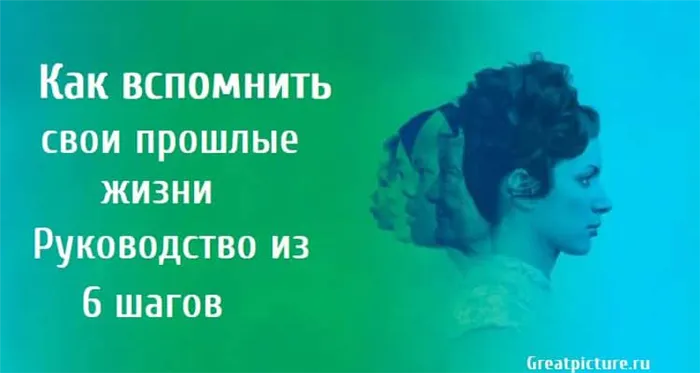В детский дом я попал, когда мне было два с половиной года. Из-за проблем с родителями, которые не справлялись с обязанностями: отец злоупотреблял алкоголем, а мать просто не могла ухаживать за детьми, меня лишили родительских прав и отправили в учреждение. В тот момент я не понимал, что происходит, но, несомненно, мне это не понравилось, поскольку дом, даже с его недостатками, всегда кажется уютнее, чем неизвестность других мест.
- Это не генетика, а травма – 5 главных особенностей детей-сирот
- Елена Цеплик, президент благотворительного фонда «Найди семью», о детях-сиротах:
- Даже если мама плохо кормит, не одевает, много пьет — для ребенка это не может стать причиной его отвержения.
- 5 главных особенностей детей-сирот
- Почему?
- За все четыре года ко мне ни разу никто не приехал
- Родителей я своих видела, но не помню их
- Осталось только чувство, что всё вокруг непривычное, и воспоминание о своей дурацкой причёске
- Мы часто ходили в одинаковой одежде и обуви, потому что вещи закупали оптом
- 3. Детский дом сделает людей из детей алкоголиков и наркоманов
- Андрей, 13 лет (воспитывается в приемной семье)
- 4. Дети из детских домов рады любому вниманию
- Александра, 15 лет, живет в детском доме: Детей возвращают, таких историй много
- Евгений, 30 лет, выпускник детдома: Все, что можно, у меня уже отобрали
Это не генетика, а травма – 5 главных особенностей детей-сирот


Часто можно услышать мнения о том, что приемные дети несут на себе клеймо – мол, в детских домах не бывает нормальных детей, а их поведение продиктовано ущербной генетикой. Однако большинство проблем с поведением детей-сирот связано не с генетическими факторами, а с травмами, которые они пережили. Об этом утверждает Елена Цеплик, президент фонда «Найди семью». Специалисты уверены, что с такими травмами можно и нужно работать.
Например, 14-летняя Маша фактически отказалась учиться в школе и постоянно говорила о суициде. Шестилетний Леша вел себя агрессивно: избивал других детей в детском саду, дома же нападал на свою маму, брата и сестру. Восьмилетняя Аня, внезапно вернувшаяся к детским привычкам, начала коверкать слова и сосать палец, а 14-летний Саша убегал от приемных родителей, прося вернуть его в детдом. У восьмилетних близнецов Наташи и Светы зафиксирован случай воровства в школе.
Каждый из этих детей уже пережил не один год жизни в детском доме, а у некоторых есть печальный опыт проживания в асоциальных семьях. С этими травмами они попали в приемные семьи, и только длительная работа специалистов позволила помочь как детям, так и их родителям справиться с проблемами прошлого.
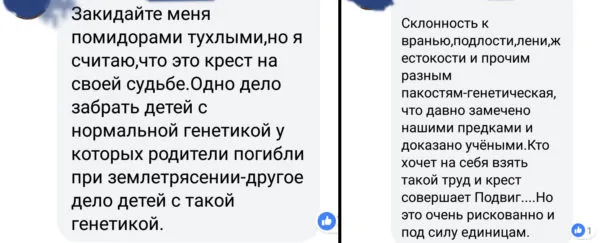
Елена Цеплик, президент благотворительного фонда «Найди семью», о детях-сиротах:
Практически у 100% детей, находящихся в детских домах, можно обнаружить ту или иную психотравму. Большинство из них получило серьезные детские травмы именно в своих родных семьях. Важно понимать, что дети из благополучных семей, как правило, не оказываются в детдомах. Будущие воспитанники детских учреждений нередко живут в асоциальных условиях, где они сталкиваются не только с алкоголизмом или наркотической зависимостью взрослых, но и с полной безразличием к их жизни, голодом и даже насилием. Такие условия очень тяжелы для детей и оставляют глубокие раны.
Изъятие ребенка из семьи становится самой настоящей травмой. Маленькие дети безусловно любят своих родителей, независимо от того, в каких условиях они живут. Даже если взрослые не обеспечивают прекрасный уровень жизни, для ребенка их любовь и забота остаются доминирующими факторами. Исключения составляют лишь случаи, когда родители совершают плохие поступки, например, систематически наносят телесные повреждения своему ребенку. Однако такие дети часто не имеют представления о том, как могут выглядеть другие, более нормальные условия жизни, и поэтому воспринимают свою жизнь как нечто привычное.
Даже если мама плохо кормит, не одевает, много пьет — для ребенка это не может стать причиной его отвержения.
Изъятие из семьи становится для него повторной травмой — ребенок теряет привычный мир и оказывается в бездушной системе детских домов, где он сталкивается с непривычными людьми и правилами. Многие из детей, оказавшихся в учреждениях, также не всегда получают необходимую психологическую помощь и реабилитацию.
Находясь в детском доме, ребенок погружается в состояние абсолютного одиночества, где его индивидуальные потребности практически не учитываются. В результате у него наступает некий эмоциональный застой, он замыкается в себе и по сути начинает существовать в таком состоянии.
Когда такой ребенок попадает в приемную семью, ему следует справляться с прошлым стрессом и травмами. Вначале сохраняется состояние замороженности, но с течением времени он привыкает к новым условиям семьи, безопасности, теплым отношениям. Этот этап часто оказывается очень трудным, потому что в этот момент могут всплывать детские страхи и переживания.
Никто не может заранее определить, как именно возникшие травмы начнут проявляться. Каждый ребенок имеет свою уникальную историю, свою реакцию на переживания. Поэтому в это время приемным родителям очень важна поддержка и знания, которые помогут им правильно справиться с трудной ситуацией.
5 главных особенностей детей-сирот
Первой особенностью является то, что дети часто не выполняют самые элементарные просьбы и указания родителей. Это создает естественное раздражение у взрослых, которые чувствуют беспомощность перед таким поведением, когда не могут заставить ребенка делать простейшие вещи, такие как мыть руки, чистить зубы или идти на завтрак.
Почему?
Такое поведение объясняется отсутствием у ребенка нормальной модели взаимодействия, где родитель — это защитник, который заботится о нем и обеспечивает его потребности. В своей кровной семье, напротив, он мог столкнуться с другой моделью, где взрослые — это скорее источник опасности. Например, в процессе воспитания ребенка могли использовать в качестве средства манипуляции и даже продавать за наркотики. Из-за этого ребенок теряет понимание, почему в новой семье ему необходимо слушаться. Чтобы помочь таким детям, необходимо организовывать специфическую работу и поддержку.
Маша попала в приемную семью в возрасте трех лет. Однако спустя 14 лет она начала проявлять поведение, близкое к последнему кризису подросткового возраста. Её мать, запрашивая помощь у фонда, описывала ситуацию, в которой девочка перестала поддаваться управлению и начала прогуливать школу, угрожая побегами и даже упоминая о суициде. Вначале родители подумали, что это обычный подростковый период, однако после общения с профессиональными психологами выяснилось, что Маша очень болезненно реагировала на отсутствие конкретной информации о своей кровной семье. Она чувствовала себя неполноценной и решила, что если приемная мама ничего не делает для поиска ее настоящих родственников, значит, это говорит о недостатке её любви.
В ходе дальнейшего расследования удалось установить, что, когда Маша покинула детский дом, она получила информацию о том, что её родная мама погибла, а кровные родственники отсутствуют. Специалист фонда, знакомясь с личным делом девочки, обратил внимание на название её родной деревни, смог связаться с местными учреждениями и, каковым-то чудом, удалось выяснить, что ее мать не только была жива, но и имела сложные отношения с обществом.
Девочка, ставшая объектом манипуляции со стороны медиков, была внебрачной, а врач предложил маме скрыть данный факт, заявив, что новорожденный ребенок умер. Вся семья в полной уверенности молилась о том, что ребенок погиб в родах. Благодаря работе специалистов удалось организовать встречу девочки с кровной семьёй, однако сама Маша приняла решение остаться в приемной семье, что было её личным выбором. В настоящее время она поддерживает хорошие отношения как с родной матерью, так и с приёмной, а внутренние переживания и секреты больше не терзают её.
Несомненно, причины её тревожного состояния она сама ещё не может осознать, как и объяснить такое поведение. В таких ситуациях очень важна помощь опытного психолога.
За все четыре года ко мне ни разу никто не приехал
Мне было двенадцать лет, когда я впервые попала в реабилитационный центр. Моя мама тяжело заболела пневмонией и находилась в больнице. Там я провела четыре месяца. Вскоре после этого моя родная сестра и её подруга под опеку взяли меня. Мы жили вместе, но такой формат не прижился, и меня снова отправили в другой центр. В тринадцать лет я потеряла маму, и с этого момента вела себя разрушительно; я постоянно сбегала оттуда, порой просто не могла оставаться на месте. В конечном итоге меня поместили в детдом, но даже там я сбегала шесть раз, просто потому, что хотела погулять по городу, а также потому что мне нехватало свободного времени.
Однако после девятого класса я стала более ответственным человеком, начала учиться на более высоком уровне — меня это удивляло. В я стала намного серьезнее относиться к учебе и даже стала благодарной за тот строгий подход, который мне применяли в детском доме, поскольку это способствовало моему развитию и дисциплине. Я поняла, что, например, полы очень важно убирать чисто.
К нам часто приезжали волонтеры, которые помогали мне с учёбой и школой. Самой любимой воспитательницей была Татьяна Алексеевна — она была очень доброй и заботливой, как мама. Она всегда уделяла огромное внимание химии и математике; мы много работали вместе, готовились к занятиям допоздна, и она всегда делала это с юмором и необычными историями.
Однако за все четыре года пребывания в детском доме, никто из родственников так ни разу ко мне и не приехал. Только сестра, которая на тот момент была уже наркоманкой, иногда приходила, особенно когда ей что-то требовалось, например, помощь с вещами. Бабушка с дедушкой по матери, а также дядя по отцу – они тоже не стали навещать, хотя жили в пределах досягаемости. Одна из тётей была готова взять меня к себе на опеку, когда я переходила в девятый класс, однако мне сказали, что она хотела взять меня лишь из-за финансовой аспектной, поэтому я отказалась и решила завершить учёбу самостоятельно в детском доме.
Мы в детском доме образовали настоящую семью, все поддерживали друг друга. С лучшей подругой, Гелей, мы до сих пор проживаем в одном общежитии. Мальчики всегда заступались за нас и не давали обижать.
Я очень любила праздники, когда мы ставили выступления и концерты, и всегда старалась подготовить что-то особенное. Кроме этого, мне удалось заняться гимнастикой и показать свои новые номера. Однажды нам посчастливилось встретиться с Александром Карелиным, известным борцом и депутатом, а я с детства мечтала о встрече с ним, поскольку занималась греко-римской борьбой и всегда восхищалась его карьерой.

Негативным моментом, который я запомнила, было то, что персонал иногда разговаривал с нами очень грубо, особенно когда чей-то поступок не нравился. Я еще помню, как один воспитатель в гневе накричал на меня, используя такие выражения, которые я до этого никогда не слышала. Из-за этого я впала в истерику, на которой заикалась из-за переживаний. Он предположил, что я матом выразилась в столовой. Было очень обидно, что никто из взрослых не заступился за меня.
Когда мы хулиганили, за это могли поставить в угол на пять часов. Применялись и более серьезные методы, в основном к мальчикам, которые были более активными и трудными. Воспитатели могли отвести их в отдельную комнату, накричать и даже ударить. Я помню, как однажды один мальчик получил удар, и его лицо опухло до неузнаваемости. Это вызывало у нас страх и панику, и все мы понимали, что такое может случиться и с нами за самые малые ошибки.
Когда мы выходили на прогулку в город, это ощущалось как нечто необычное — всегда хотелось остаться там подольше. Мы возвращались с грустными и подавленными лицами. Каждому ребенку полагалось по 400 рублей в месяц, которых еле хватало даже на аттракционы, так что хорошего было очень мало.
В школе мы изучали уроки вместе с домашними детьми и общались с теми, кто мог понять нашу ситуацию и не стал нас осуждать. К сожалению, порой родители запрещали своим детям общаться с нами, полагая, что детские дома подразумевают отсутствие нравственных качеств, и что мы обязательно воры или хулиганы. Даже у нас были случаи, когда воспитатели проявляли предвзятость и не хотели контактировать с нами, хотя вскоре понимали, что это не так.
Родителей я своих видела, но не помню их
Я попала в детский дом совсем маленькой, и не помню точно, сколько мне было лет. Прожив там три или четыре года, я была переведена в школу-интернат для слабовидящих детей. В этом учреждении я проучилась десять лет, а затем, из-за плохого поведения, попала в психоневрологический интернат, где в течение года училась на повара-кондитера, после чего переехала в социальную гостиницу.
Мою мать лишили родительских прав по причине алкоголизма и после несколько лет она скончалась. Соседи говорили, что я видела своих родителей, но не запомнила этого момента. Всего лишь одна раз мне показывали черно-серую фотографию мамы.
Сначала я была замкнутой и стеснительной, вообще не общалась с окружающими. Однако с течением времени привыкла и даже начала хулиганить, сбегая от воспитателей и гуляя без разрешения.
В детском доме не было ужасных условий, нас просто могли одернуть, если мы вели себя неправильно. Но в целом ко мне относились хорошо. В школе-интернате было всего несколько сирот, всего восемь, а потом осталось только четыре.
Мы учились наравне с детьми из обычных семей, хотя были случаи, когда наши одноклассники нас обижали. В начальных классах надо мной часто подшучивали, могли подойти в туалете, когда я умывалась, взять за волосы и ударить головой о стену. Взрослые при этом были бездействующими. Это продолжалось до шестого класса, даже потом стало постепенно прекращаться. Кто-то из старших выпускался, кто-то просто останавливался в своем поведении. Я задавалась вопросом, почему они так поступают. Эту реакцию объясняли тем, что не понимали, почему ведут себя так.
У меня была подруга из домашнего окружения, с которой мы хорошо общались. Я делилась с ней секретами, но вскоре узнала, что она стала доверять и разносить обо мне слухи. Это вынудило меня временно прекратить общение, хотя позднее мы снова возобновили дружбу. Однако потом она начала воровать у меня, что и стало окончательной причиной разрыва отношений. Учителя в школе также предупреждали меня о её умении воровать, но я не слушала их и не верила.
На одном из уроков в психоневрологическом интернате к нам приехал тренер, предложив заниматься велоспортом. Это произошло в 2017 или 2018 году. Я до этого не каталась на велосипеде, но вдруг села и поехала. Тренер пригласил в группу, и я согласилась. Через год я оказалась в Дубае, где было множество людей из всей России, но из Костромы я была одной.

Паника началась, когда мне сообщили о том, что мы полетим на самолете. Это случилось восьмого марта, стюардесса раздавала всем цветы. Тренер, видя мой настрой, попросил дать мне два. Эмоции во время соревнований были на высоте, мне удалось познакомиться с множеством людей, и было приятно заставить себя выступать — ведь я никогда не занималась спортом, а тут смогла. Сейчас велоспортом я не занимаюсь, так как основное время уходит на работу и семью.
К психоневрологическому интернату я попала из-за неподобного поведения. Я постоянно сбегала из мест, где держали, желая исследовать город и знать, как все устроено. Однако в этой организации находились в основном дети с психическими отклонениями. Директор первого интерната уклонилась от действительности и направила меня в поликлинику на обследование, что на самом деле не давало реальной информации — she без согласия поставила диагноз именно в отношении моей психики. Так я и оказалась там.
Впоследствии к нам приходила комиссия, задавая множество вопросов о моем состоянии и о том, насколько я самодостаточна. Несмотря на плохое зрение, я очень хорошо разбиралась, как ориентироваться по городу. Когда директор моего прежнего интерната узнал о такой ситуации, он решил помочь мне, отправив на повторное обследование, в результате чего мне удалось получить инвалидность только по зрению.
После окончания учебы мне пришлось столкнуться с большим числом трудностей. Я оказалась одна, без друзей. Когда я переехала в социальную гостиницу, куратора сначала не было. Я совсем не знала, как работать с документами, в том числе как снимать деньги из банка. Никто никогда не объяснял мне, как обращаться с деньгами, поскольку все делали за меня. Я не умела готовить или стирать, но могла прибраться. Однако уже через несколько дней после заселения мне нашлись куратор и социальный педагог, которые помогали мне адаптироваться. Со временем я научилась справляться самостоятельно.
Осталось только чувство, что всё вокруг непривычное, и воспоминание о своей дурацкой причёске
Когда я попала в детский дом, главный вопрос заключался в том, как меня распределить: я была самой младшей из своего семейства, и не могла оказаться в одной группе с братом и сестрой. Моя тётя, беспокоясь о том, как будет решена ситуация, решила, что мне лучше начать учёбу в школе в пятилетнем возрасте вместе с сестрой. Это обстоятельство позволило нам быть в одной группе в детском доме и жить вместе. Эти условия отразились на моей успеваемости: мне было очень трудно, и я не могла усваивать материал.
Детский дом, куда мы попали, располагался в посёлке Ясная Поляна, неподалёку от нашего родного села. Это было государственное учреждение, в котором воспитывались дети от трёх до восемнадцати лет. Теоретически можно было покинуть его раньше, если быстро закончить девять классов и поступить в техникум или училище. Мы жили в большом, трёхэтажном кирпичном здании, которое вмещало около трёхсот детей вместе с работниками. Рядом была школа, с которой детский дом связывал отдельный переход, который также служил актовым залом.
На входе в учреждение была висела табличка. В настоящее время Яснополянский детский дом закрыт, а здание, в котором он размещался, заброшено. Фото сделан Сергеем Куракиным.
Первый этаж занимали административные кабинеты. У нас даже была столярная мастерская, где проходили кружки. На двух верхних этажах располагались жилые помещения: второй этаж был отдан мальчикам, а третий — девочкам. Каждое отделение делилось на два крыла: в одном размещались младшеклассники, а в другом — старшие. Мы с сестрой получили комнату на троих, с соседкой, которую я до сих пор помню.
В нашей спальне не было ничего выдающегося: две кровати, одна из которых была двухъярусной, три тумбочки, стол, а также шкаф для одежды, который служил нам развлечением. Мы часто залезали на него и прыгали в пружинную кровать. В каждом крыле были и игровые комнаты с телевизорами и местами для учебы, а также склад игрушек. В этих комнатах мы отмечали праздники и проводили чаепития с тортами для именинников раз в месяц. Также в каждом клетушке располагались умывальные и туалеты. В целом во всем было достаточно чисто и уютно.
Детский дом окружал яблоневый сад, а также находился весьма большой огород. В той детской среде, где мы обитали, ранее дети трудились на огороде, но нам такой возможности не предоставили. На территории находилась баня, куда мы раз в неделю ходили мыться.
На некоторых детских фотографиях показана Катя. На левом верхнем снимке Катя — в зелёной кофточке, и это был момент, когда она только попала в учреждение. Снимок сделан архивом Кати Куракиной.
В 1997 году в Яснополянском детском доме находилось приблизительно восемьдесят детей. Я не помню своих ощущений за первые дни там. Осталось лишь чувство непривычности, а также воспоминание о своей нелепой стрижке. Когда мы заселялись, всем детям сделали стрижку под кореже, вероятно, чтобы избежать вшей. Мне вообще казалось, что это слишком коротко. Также помню, что часто падала с кровати по ночам, поскольку спала на верхнем ярусе.
Мы часто ходили в одинаковой одежде и обуви, потому что вещи закупали оптом
В детдоме жизнь была строго по расписанию: встал, умывался, завтракал, шёл в школу, а после учёбы проводил уроки. Иногда нас привлекали к хозяйственным работам — чаще всего этим занимались девочки, например, чистили картошку. В свободное время мы играли или занимались творчеством. Нам ежемесячно выдавали немного карманных денег, которые мы могли потратить на сладости в магазине.
Одежда выдавалась раз в месяц. Воспитатели составляли список необходимых вещей, которые закупали и раздавали. На каждую деталь одежды существовали квоты: например, осеннюю куртку выдавали на год и ее заменяли исключительно в случае полного износа. Нижнее белье заменяли почти каждую месяц. Из-за этого бывали случаи, когда мы часто надевали одинаковую одежду и обувь, так как вещи закупали оптом.
Теперь можно посмотреть на один из рисунков, который остался на стене детского дома. Фото сделано Сергеем Куракиным.
Основной проблемой оставалась необходимость поддерживать коммуникации с другими детьми. Часто старшие воспитанники обижали младших, дразнили и даже иногда могли завести драку. К счастью, у нас всегда был защитник — старший брат, который вставал на нашу сторону.
Все дети, живущие в детдоме, делились на группы, и каждая имела своего воспитателя. Наша воспитательница называлась Людмила Борисовна, и до сих пор общаемся с ней. Она занималась организацией досуга, поддерживала нас, помогала решать проблемы. Запомнилось, как мне на уроках по математике было очень сложно, и я обращалась к воспитательнице за помощью. Она объясняла мне задачи с конфетами, что намного упростило моё обучение. Кроме этого, Людмила Борисовна научила меня вязать и вышивать. За это я ей очень благодарна. Я также много общалась с уборщицами, часто навещая их для общения, и могла помочь в их делах, пока обучалась различным навыкам.
Мне кажется, нам повезло с работниками детдома: все они были отзывчивыми, внимательными и, что находилось вне всяких сомнений — действительно любили детей. Однако наградой мне могло показаться недостаток взаимодействия, так как после третьего года учёбы в детдоме я подцепила туберкулёз и провела с ним целый год в диспансере. Когда я вернулась, благо, что на меня давали повышенное внимание и заботу. Например, директор даже приносил домашнее варенье, чтобы способствовать моему выздоровлению.
3. Детский дом сделает людей из детей алкоголиков и наркоманов
Андрей, 13 лет (воспитывается в приемной семье)
Мои приемные родители пришли ко мне, когда мне исполнилось 11 лет. На тот момент я уже пробовал пить алкоголь и курить. Они увидели меня в передаче, где папа заметил, что я похож на него. Он решил, что я подойду в семью, и я согласился, потому что не испытывал удовольствия от жизни в детском доме, завидовал всегда семейным детям в школе.
Первоначально я практически ничего не рассказывал о детском доме, боялся, что меня могут отвергнуть. Однако вскоре мы начали обсуждать мои обстоятельства. Мои биологические родители были алкоголиками, и меня забрали из этой среды. Я никогда не захочу повторить их судьбу, а если бы остался там, это было бы неизбежно — все там пьют.

Статистика показывает, что лишь 10% детей, выпустившихся из детских домов, способны адаптироваться во взрослой жизни. Большинство из них не доживает до 40 лет: многие из них начинают злоупотреблять алкоголем, становятся правонарушителями и, как показывает практика, повторяют пути своих биологических родителей.
4. Дети из детских домов рады любому вниманию
Оля, 14 лет (воспитывается в детском доме)
Мы — как зверушки в контактном зоопарке. Люди приходят, фотографируются с нами, и всегда стараются быть добрыми, но от этого становится очень обидно. Гости из разных спонсорских компаний заходят в наши комнаты, и мы должны радоваться их вниманию. Каким образом такая ситуация может быть приятной для нас?
Также на экскурсиях мы всегда знаем, что люди смотрят на нас, как будто у каждого из нас на лбу написана история нашей жизни. Их это интересует, и каждый разговор так или иначе сводится к нашей истории. А мы в детском доме уже привыкли к тому, каково быть здесь.
Люди, которые не знакомы с детьми-сиротами, часто ошибочно полагают, что для ребенка, который испытывает недостаток внимания, любое общение с новым взрослым должно приносить ему радость. Однако на самом деле воспитанники детских домов вполне естественно насторожены и часто равнодушны к попыткам незнакомы человека взаимодействовать.
Для детей, в жизни которых за годы существования поменялось много воспитателей, учителей и кандидатов в приемные родители, только постоянное и длительное взаимодействие со стороны взрослых может вызвать доверие к ним, обеспечивая достаточно пространства, чтобы открыться и поделиться своими проблемами.
Александра, 15 лет, живет в детском доме: Детей возвращают, таких историй много
Моя мама выросла в детдоме, и скоро все её близкие погибли. Отец бросил её беременной, и в итоге нас забрали — меня и моего брата. А в четыре года я попала в детский дом.
В тот момент я еще не понимала, что происходит, и лишь через два года меня перевели в приемную семью, где я жила шесть лет. У них был свой взрослый сын, но им нужна была девочка, такая как я.
С ними я училась хорошо, так как мама помогала мне с уроками, и они много общались со мной, надеялись вырастить из меня достойного человека, не совсем понятно, удалось ли им это.
В подростковом возрасте у нас начали возникать конфликты. Я могла капризничать, обманывать, хотя мама очень не любила, когда ей лгали. Я врала, потому что боялась наказания. Часто бывали разногласия, заканчивавшиеся слезами — как с моей стороны, так и с её. В один момент она просто сказала: хватит.
Они сделали это тайно, даже не усмотрев со мной, вначале отправив меня в летний лагерь, потом — в реабилитационный центр. В итоге, в психоневрологическом интернате мне мягко сообщили, что от меня отказались.

Эта новость стала для меня сильным ударом. Я почувствовала опустошение и обиду. Теперь, когда я понимаю все происходящее, я осознаю, что у нас не получилось установить доверительные отношения. Пожалуй, дети возвращаются из семей, и таких историй множество.
У меня не было телефона, и я не могла поддерживать с ними связь. Позже в гости ко мне приезжал отец, но у меня не хватало смелости обсуждать с ним ситуацию.
Он и сейчас иногда бывает у меня в семье. Отец хотел бы забрать меня, но повторный прием детей в семью не предусмотрен, и это считается, что с приемной семьёй не успели справиться.
В детском доме всегда не хватало свободы, которая существовала в семье. Мне не хватало родительской ласки и семейного уюта.
Когда я снова вернулась сюда, у меня был шок. Моя успеваемость упала, и мне было абсолютно все равно.
В итоге я сама перевелась в другой детский дом по собственному желанию. Здесь педагоги вовлекают детей, организуют занятия с репетиторами, волонтерами и помогают различным фондам, уделяя внимание участию в конкурсах и поездках.
В 2016 году моя родная мама нашла меня в социальных сетях. Сначала я не хотела с ней общаться, но в итоге мы встретились. Говорили, что у неё может быть асоциальный образ жизни и она пьет, но это оказалось не так. Она много работает, забрала брата из другой приемной семьи, и теперь он живёт с ней. Она хотела бы вернуть и меня, но я отказалась, решив, что спокойнее остаться в детском доме, а потом выпуститься и жить своей жизнью.
Сейчас я занимаюсь в программе Шанс, которая финансируется фондом Арифметика добра, и у меня есть настоящий наставник — он из Солнечного города и оказывает мне необходимую поддержку. Я подтянула свою успеваемость, и стремлюсь поступить на факультет рекламы и связей с общественностью в ВШЭ.
МОжно ли мне снова вернуться в приемную семью? Это сложный вопрос, поскольку у меня сейчас нет никакого доверия к людям. Я знаю, что у меня есть мама, и этого, пожалуй, достаточно для меня.
Евгений, 30 лет, выпускник детдома: Все, что можно, у меня уже отобрали
Я оказался в детский дом примерно в два года, потому что моя мама была алкоголичкой. На свободе осталась только старшая сестра — ей на тот момент уже исполнилось 16 лет. Нас, мальчиков, распределили по разным детским домам.
В этот момент у меня был удален один глаз из-за онкологии. В детдоме меня дразнили, называли Циклопом, но потом я проявил задиристый характер и снова получил прозвище Джек-Воробей, затем просто Воробей.

В детских домах процветала дедовщина. Каждый был сам по себе, и нужно было проявлять силу, чтобы выжить. Хороших детей не любили. Я учился на отлично, за это меня часто били.
Мне надоело это терпеть, и я стал отвечать на провокации. За это меня отправили в психиатрическую больницу.
Заход в больницу был настоящей пыткой: нас будили ночью, задавая вопросы, словно под пытками. Подсаживали детей на уколы и таблетки. Но даже поездки в больницу были выходом — хоть на время убегали от детского дома и его наказаний.
Наказания бывали самые разные. В семь лет я оказался в неприятной ситуации, когда у меня нашли сигареты. Я поссорился с девочкой, которая была старшеклассницей и сдала меня, и меня посадили на ночь в овощехранище. Там бегали крысы, а я боялся, что они меня загрызут, от чего всю ночь ходил и не мог заснуть.
Когда мне было семь лет, ко мне пришли приемные родители. Я отказался идти к ним.
Старшие ребята начали бить меня за это. В детдоме всегда была своя культура: не позволяли обсуждать уход в семью, личными мнениями делиться было нельзя — это считалось стукачество.
Воспитатели тоже говорили: «Мы так старались с ним, а он нас оставляет». Теперь я понимаю, возможно, если бы я тогда ушел, моя жизнь сложилась бы иначе.
Я всегда мечтал стать каменщиком, но в детдоме меня направили учиться на овощевода. Выбор никогда не был за нами.
О смерти мамы я узнал в 14 лет случайно, когда залез в кабинет и прочитал личное дело.
Это шокировало меня; я проснулся всю ночь, держались за листок с информацией о её смерти. Я мечтал выйти из детского дома и разобраться с ней: почему она так поступала? Но сейчас и мстить некому.
Я не смог простить своих родителей. Прощение возможно только для тех, кто этого хочет. Но поскольку моя мама не желала этого, значит, ей не нужно.
Когда я выходил из детдома, мне не дали жильё — не знал, что это возможно. Сейчас у меня идет судебный процесс.
Как только я вышел из интерната, мне перестали выплачивать инвалидность по зрению. Теперь мне отказывают, я пробовал записаться на учёт. Работаю грузчиком в ночные смены.
Если мне придется полностью ослепнуть, я не вижу смысла жить. Человек одинок после детского дома, и это очень трудно.
Мне терять уже нечего. Возможно, поэтому мне так легко и живется, ведь все, что можно, у меня уже отняли.
К Всемирному дню сирот фонд «Арифметика добра» организовал в социальных сетях флешмоб «У детей должна быть семья». Если вы хотите привлечь внимание к этой важной проблеме, поддержите акцию: установите на аватарку рамку (можно загрузить тут) и сделайте пост о своем отношении к сиротству с хештегами #арифметикадобра и #деньсирот